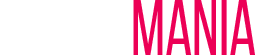I'm not giving up — I'm just giving in
- Автор: Grey Kite aka R.L.
- Бета: Forion
- Размер: мини, 3945 слов
- Пейринг/Персонажи: Отори Канаэ, Отори Акио, Химэмия Анфи, упоминаются господин и госпожа Отори
- Категория: джен/гет
- Жанр: ангст, мистика
- Рейтинг: R
- Краткое содержание: Рецепт по созданию принцессы; смыть, повторить.
- Примечание/Предупреждения: частично по «секрету» с тумблера: Канаэ некогда, как и Утэна, была победительницей дуэлей, но в финале выбрала стать принцессой, и символизирует то, что могло бы случиться с самой Утэной; сцена с яблоком, таким образом, означает, что ее «убирают со сцены», поскольку Утэна приходит ей на замену; также это объясняет, почему она не вытаскивает ни из кого меч, а цветок, связанный с ней — не роза; боди-хоррор, метафорическое описание сомнительного сексуального согласия, упоминание инцеста; автор курил гробы(с).
Ей кажется, что она вполне готова к последней своей дуэли.
Заходящее солнце стелется ей под ноги, освещая путь, прямой, как непреклонное лезвие клинка духа. Кольцо-печать привычным теплом обнимает палец.
Ей кажется, она уже знает всё, чем способна встретить её Арена.
Ей — кажется.
Она выставляет клинок вперед, но меч — не защита; нет дуэлянта, противника — лишь пыль, зависшая в воздухе.
И Арены — такой, которую Канаэ помнит — нет тоже.
Из трещин в декорациях бьёт слепящий свет — выламывается, точно древесные корни из-под крошащегося асфальта. Лучи сходятся в одной точке, под их напором рушатся камни, но ковровая дорожка налитых кровью теней — прежних её побед — ложится Канаэ под ноги мостиком над умопомрачительной бездной.
И оно вырастает в самом центре, из столпа света — остро, пронзительно, отдаваясь болью в собственном её позвоночнике.
Ось мироздания. Стержень, направленный в вышину, — лестница, ведущая в небеса.
В замок, где живёт вечность.
«Ах».
Она еще чувствует касание смуглых пальцев — ладони разжимаются медленно, так медленно, словно время попало в сети — словно каждая секунда трепещет мухой в ожидании паука.
Невеста — проводник, ключ и лоза, тяжелые, душные касания в темноте, ускользающая улыбка, дрожь, проходящая сквозь пальцы и отдающаяся под рёбрами с началом каждой дуэли — дрожит, истаивая, словно сам воздух поглощает ее; изумрудная роза, щедрость и изобилие, вянет в единый миг, заполняя ноздри запахом гнили.
И он спускается ей навстречу — ступени поют под его ногами, подобно клавишам фортепиано, и так же чеканно ложатся тени: ровно через одну ступеньку.
Свет и тьма; светотень, переливы огней в амфитеатре обсерватории — или на карусели: белые, вороные, чубарые лошади, вверх и вниз.
У неё кружится голова, она оступается, и он подхватывает её под спину — с галантной уверенностью прирожденного принца.
Ей пристало бы скорее думать: «О нет». Но в голове неотступно звучит: «О да». О да, конечно, само собой разумеется, как же она раньше не догадалась.
Она смотрит ему в лицо, и лицо плывёт, разбиваясь на рисунок звездного неба — надмирный, величественный и безразличный.
«Я и есть вечность», — молчит он в её распахнутые глаза.
Её рука опускается всё ниже и ниже, клонится к земле, будто для обманного маневра, подлого, но решительного удара. Но удара не будет: пальцы наливаются свинцовой тяжестью, и эфес меча едва держится в них. Хватит лишь самой малости, чтобы касание прохладного металла сменилось воспоминанием о теплой, сильной мужской ладони.
Атлас и шёлк обволакивают ее, точно кокон — бесстыдно льнут к коже, отмечая каждый изгиб, вплоть до самых интимных. Чуждое напряжение натягивается между ног, точно тетива.
«Это твоя награда».
Звон свадебных колоколов наполняет всё её существо — кости трескаются, ломаются, крошатся от этого звука. Оглушительный резонанс разрывает внутренности, арена — роза на длинном стебле — дрожит, и опора, слишком хрупкая для таких чудовищных нагрузок, не выдерживает, и всё строение — груда разрозненных камней — почти беззвучно рушится...
Миг — и ничего этого не было. Словно сон длиной в несколько мгновений пронесся перед глазами - и всего этого для неё теперь не существует.
Есть только он.
Только его руки, крепко сомкнувшиеся вокруг неё.
«Станешь ли ты моей...»
Принцессой? Женой?..
Только этот предлог — непринужденная, пригибающая к земле принадлежность: право принца, ожидающего храбрую принцессу (спасительницу! невесту!) в конце пути.
Сколько железных башмаков она истоптала, чтобы встретиться с грёзой из далекого детства? Сколько износила железных платьев?
Канаэ не может вспомнить: ведь было же что-то ещё. Тёмное пятно на стекле объектива, отпечатавшееся на фотографии; тень, которую не увидишь прямо — только боковым зрением.
Нет.
Ничего не было.
Никогда.
Она чувствует себя пустой, лёгкой, точно пушинка — здесь, на высоте, ревущий ветер поднял бы её с арены и унёс, если бы её принц не обнимал её.
Она выдыхает: «Да», — неслышно и хрипло, как будто бы этот вздох для нее последний.
Он улыбается, и его глаза вспыхивают двумя умирающими звездами, когда он наклоняется к её губам.
Канаэ ловит его дыхание, как дуновение ветра на Краю Света; вдыхает — и забывает, как выдохнуть.
...со звоном ударяется о камни клинок, ненужно-отброшенный...
...увядшая роза у нее на груди обращается в лилию...
…замок сходит с небес — или они возносятся к нему, вдвоём, не размыкая рук...
...она взлетает — одна, как вздёрнутая на виселице, дыхание вышибает из лёгких одним толчком...
…и она висит в воздухе — в пустоте — между равнодушными звездами…
…и многоцветье мерцает вокруг, словно огоньки карнавала…
…больно, о, как же больно...
...и корни цветка прорастают в нее — насквозь, зажимая то, что было некогда сердцем, в безысходную хватку.
Канаэ кричит, распялив рот, как детская кукла: толкнули на спину, забыли перевернуть.
Канаэ кричит, разрываясь изнутри — разрываясь надвое, от низа живота и до шеи, — раскалываясь, точно яйцо, заключавшее в себе мироздание.
(Мертворожденный цыпленок, недоразвитый эмбрион, стягивается в красную точку, и точка эта пылает во лбу у Невесты-Розы — ложный маяк, ведущий на мель).
Канаэ кричит до тех пор, пока не перестаёт себя слышать.
...Рассказывают, жил-был король, у которого не было детей — ни в законном браке с венценосной супругой, ни бастардов от какой-нибудь пригожей крестьянки.
И король пребывал в печали, ибо некому было унаследовать королевство; а была то страна великих чудес и великого изобилия, молва о которой тянулась до самого края света. Особенно же славился розовый сад, где можно было встретить цветы самых прихотливых форм и оттенков. В сердце же сада бил источник с чистейшей водою — говорили, что вода та целительна для сердечных и плотских ран. Но путь к роднику заграждали кованые врата, и ключ к ним давным-давно был потерян.
Даже король и повелитель страны бродил у тех врат, как нищий.
Не находилось утешения королю.
Но однажды из далеких южных земель явился прекрасный принц. Приехал он на белом коне, одетый в изысканный наряд из алого шёлка. Богатые дары приподнес принц гостеприимным хозяевам: каменья, укрывавшие в себе искру утренней звезды, и дивные клинки, чья сталь не ржавела и не тупилась со временем.
И был он настолько обходителен, умён и пригож собою, что совершенно очаровал и старого короля, и весь его двор. Ни разу так не бывало, чтобы не к месту пришлись его слова: была в них и мудрость, и красота. Мало-помалу, а начал король доверять юноше-принцу в таких делах, в каких не совещался даже со своей королевой.
Королева, говорят, тоже полюбила юного принца всем своим сердцем. Всех детей, которых она не сумела родить и выкормить, заменил ей он.
И рано ли, поздно ли, а взял старый король руки принца в свои ладони, посмотрел слезящимися глазами ему в глаза и обратился к нему с любовью и отчаянием: будь мне как сын и наследник.
Поначалу отказывался принц. Но был король непреклонен, и королева ласковым голосом вторила ему.
Трубили глашатаи по всему королевству, созывая равно дворян и простолюдинов на великое празднество. Играла музыка и звенели песни, прославляя неожиданную, но тем более великую радость.
И вот наконец старик-король возложил венец на сияющие белые волосы юноши, во всеуслышание объявляя того своим сыном. И ликование охватило подданных, что столпились внутри замковой часовни.
Но в тот же час заезжий принц обернулся драконом. Его ледяное дыхание заморозило замок со всеми придворными и прислугой, а затем и целое королевство.
В тишине поднялся принц на ступени трона и сам возложил себе на колени старинный королевский меч. В тишине произнес он клятву беречь своё королевство, дабы всё в нём осталось таким, как прежде, на веки вечные. И в тишине же сошла на королевские земли госпожа ночь, драконова родная сестра, с которой их обручили ещё в материнской утробе. Сложила она свой темный плащ-крылья в розовом саду, перед вратами, в которые по ведьминской своей природе не властна была войти.
А потом принц-дракон снял корону и приготовился ждать.
Ведь множество рыцарей странствуют по миру, мечтая сложить верность к ногам достойного господина; что может быть желанней для них, чем отдать во имя благородства и красоты не то что жизнь — саму душу?
Ведь каждая девушка в душе своей — принцесса; и что может быть естественней для принцессы, чем искать принца? Даже если принцесса, по воле случая или злой судьбы, путешествует с мечом и на лошади, ее сердце под тяжелым доспехом точно так же томится и жаждет любви.
Он встретит ее, когда она попросится на постой, и его верные рыцари устроят в её честь блестящий турнир. Столкнутся со звоном мечи, с треском ударят о щиты копья.
Он встретит каждую, каждую испытает — ведь предсказано ему, что лишь чистая сердцем дева способна одолеть дракона. Сталью будет её сердце, лучом и ключом.
Но что, если дракон первым завоюет сердце девы? Тогда сама она отомкнет ему врата, сама омоет его чешую в сверкающем роднике.
И награда не заставит себя ждать.
В конце-концов, королю ведь нужна законная королева.
Не так ли?
Она лежит на спине, ладони скрещены на рукояти меча, на веках — тонкие, лёгкие лепестки.
Хрустальный гроб качается на золотых цепях. Вода капает с потолка в глубине пещеры. Мерный звук, точно колыбельная песня. Мерный ритм, баюкающий навек.
Она лежит на спине, веки смежены, губы чуть приоткрыты.
Она спит и не спит, грезит и осознаёт нереальность грёзы.
Она видит сны о чудищах, героях, принцессах; о мечах, со свистом рассекающих воздух, звенящих о броню или чешую; о шелковых платьях и золотисто-вьющихся волосах, убранных под сетку или под шляпку.
Она видит сны о розах, шипастых диких кустах, обманных цветах, чьи лепестки — ложные надежды и мертвый пепел.
Нежная мякоть касается приоткрытых губ спящей девы — а может, это был поцелуй? По крайней мере, на губах юноши-тени, склонившегося над ней, блестит сок.
Ее грудь судорожно приподнимается. Дрожат веки, силясь открыться. Вздрагивают ноздри, почуяв тревожный запах.
Ритм становится резче, словно качается уже не сам гроб — вернее, не только он. Рукоять меча вздрагивает, вздымается и опускается, выскальзывая из уютных ножен — и опять скользя в них.
Дева бормочет во сне, сжимает и разжимает пальцы, пытаясь прикоснуться — или дотянуться; вот только к кому? до чего?
Пещера содрогается, как от землетрясения.
Цепи лопаются с противным, гротескным звоном, одна за одной.
Гроб разлетается тысячей прозрачных осколков — бритвенно-острые, они врезаются в землю, взрезают кожу, разбрасывая алые брызги, точно фейерверк.
Дева лежит на холодном камне, её ладони покрыты алым и липким, а щёки розовеют румянцем.
Она приходит в себя и поначалу думает, что во сне проткнула себя мечом — иначе откуда бы столько крови. Найти бы кого-нибудь, кто помог бы стащить кольчугу, разорвать рубашку и перевязать рану: иначе она совсем ослабнет, а внутрь, того и гляди, проникнет зараза...
Но только зачем ей — принцессе — меч?
Разве ее принц — ее спаситель, ее любовь и мечта — не защитит ее?
И разве не богатое платье было на ней, погруженной в колдовской сон, а вовсе не отвратительный, холодный металл?
Она хочет засмеяться, но из пересохшего горла вырывается только хрип.
Она открывает глаза. Пытается приподняться, привстаёт на локтях — но отчего-то не может как следует свести ноги. Смаргивает туман (или запоздалые слёзы?) и...
...пошатнувшись, чуть не падает ему на руки — в обволакивающее, надежное тепло его тела. Румянец вспыхивает на щеках от беглой мысли: каково будет ощутить это теплое тело иначе, полностью, после неизбежной их свадьбы?
— У тебя закружилась голова, моя дорогая. — Он предупредителен, как всегда; бархатный голос ласкает слух, широкие ладони успокаивающе разминают плечи.
Канаэ благодарно кивает, оборачиваясь к своему принцу, своему жениху.
Её платье цвета спелых персиков — только коснись, и потечет сок. Легкая ткань полунамеком очерчивает округлые груди, свободная юбка беззаботно развевается вокруг ног.
Её туфли — легкие, белые, на изящном невысоком каблуке.
Её волосы вьются кудрями, которые так удобно накручивать на пальцы.
Принц улыбается, обматывая её шею шарфом — и не забывает заботливо затянуть плотный узел.
В точности как на виселице.
Съешь яблочко наливное, принцесса.
Смотри: не старуха-ведьма предлагает его; прекрасный странник на белом коне протягивает тебе плод на смуглой ладони.
«Ты слишком утомилась в пути, моё прекрасное дитя», — говорит он, и его улыбка сияет, точно серебряная река в небесах.
Смотри, как яблочко очищается от кожуры, словно теплая плоть — от холодной кожи. Словно девственница — от плевы, словно разум — от тяжести ненужных воспоминаний.
Поймай в ладони его, истекающее соблазнительным запахом, взвесь, как взвешивают сердца мертвецов чужие южные боги. (Как взвешивают ладонями наливные груди любовницы, прежде чем припасть губами к соскам).
Съешь яблочко, принцесса.
Закрой глаза, сияющие, как изумруд.
Спи, как спала когда-то.
Пока прекрасный принц не пробудит ото сна поцелуем. (Таким, от которого трепещут и приоткрываются губы – другие губы, влажные и мясистые, куда целуют нареченных невест и будущих жён прекрасные принцы, которые уже давным-давно повзрослели).
Как и когда-то, проснешься уже не ты.
«Не помню».
Она вновь замирает на середине какого-то простого, повседневного жеста — то ли пытаясь донести до чашки ложечку с сахаром, то ли подводя губы у зеркала в прихожей, то ли расчесывая волосы перед сном.
Непомнюнепомнюнепомнюне...
Словно механическая игрушка, которую время от времени нужно заводить заново. Канаэ тянется рукой за спину, шарит ладонью — нет ли ненароком у неё в спине выемки для ключа.
Она смеется – неестественно-высоким смехом, который чаще, чем хотелось бы, слышала от собственной матери. (Или воображает, что слышала — ведь… они ведь должны — были — бывать где-то вместе, где-то там, за высокими белыми стенами ее королевства?)
Какие глупости приходят иногда в голову.
Канаэ поводит плечами, сбрасывая с лопаток мурашки. Садится на диван, осторожно, чтобы платье не задралось и не открыло чего-то неподобающего. Баюкает в ладонях чашку с душистым чаем.
Её жених появляется на пороге — и его лица не видно за пестрым букетом роз. Их столько, что даже не сосчитаешь: все цвета радуги, от которых хочется отчего-то заслониться рукой.
Алые, желтые, рыжие. Лазоревые, зеленые, синие.
Но ни одной белой — и ни одной черной.
— Подарок от сестры, — беззаботно поясняет он.
Он ставит всю охапку, целиком, в одну матово-белую вазу. Прямо посередине стола. Запах ударяет в ноздри: дурманящий, приторно сладкий. Канаэ бросает взгляд на лицо жениха, устроившегося напротив: нога закинута на ногу, хвост светлых волос небрежно перекинут через плечо.
— Всё хорошо, дорогая, — улыбается он.
Она смотрит ему в глаза.
«О да», — безмолвно кивает он.
— Да, да, да, — эхом слетает у нее с губ.
Осколок памяти шевелится где-то под грудью…
Словно острый шип, внезапно и зло уколовший её палец.
Фарфоровая чашка со звоном разлетается, ударившись о пол.
Сестра жениха смотрит на неё так... Канаэ не может подобрать слово: взгляд, в равной мере сосредоточенный и безразличный, которому не нужно даже следовать за Канаэ, чтобы поймать её, когда вздумается. Канаэ кажется, что Анфи пошло бы собирать бабочек — пошли бы сачок, набор иголок, морилка; она бы бесстрастно накалывала свои жертвы на листы плотной белой бумаги, переворачивала заполненные страницы, отмечала карандашом место и время поимки. И на каждой странице — разноцветными маркерами, лепестками радужных роз — было бы выведено изящным царственным почерком название очередного редкого вида.
Будь она бабочкой — какой была бы Канаэ?
Она выглядывает из окна: школьный двор сейчас почти пуст, только стайка младших девчонок шепчется в тени о чём-то своем. Воздух налит ленивым теплом, и Канаэ тянет руки, чтобы ощутить на коже лучи.
Но ощущает вместо этого, как её палец слегка покачивается под неощутимым весом насекомого тельца.
Бабочка-капустница, белая с пятнышками.
Их много в академии этим летом: столько, что несложно — даже против воли — представить, как попадаешь прямо в их суетливое облако, как они ползут по всему телу, проворно перебирая лапками, хлопают полупрозрачными крыльями, путаются в распущенных волосах.
Как умирают, мелко сотрясаясь в агонии, и падают, укрывая пол трепещущим черно-серым ковром, а потом становятся перегноем, на котором растят цветы.
Собирай Анфи коллекцию бабочек — куда бы она девала чересчур обыкновенных, которые только занимали бы лишнее место?
Канаэ морщится, вздрагивает всем телом, как будто выставленная без одежды на пронизывающий ледяной ветер.
Канаэ, на самом деле, не любит бабочек.
Вот бы еще узнать, почему.
В иные ночи Канаэ глаз не может сомкнуть. Постель кажется ей огромной и чересчур холодной, совсем не такой, как в родительском доме — так могла бы она сказать, если бы только помнила, каково это вообще — спать дома, дочкой-лапочкой с подоткнутым одеялом.
Она ворочается, и никак не выходит устроиться поудобней — словно меч проглотила.
(И откуда только у нее, ни разу не державшей в руках оружия, в голове взялось такое сравнение?)
Она лежит, уставившись в потолок и обхватив себя руками за плечи. Одиночество наваливается на неё, словно тайный ночной любовник, которого она не желает. (Она ведь любит только своего жениха, только его одного). Одиночество перехватывает ей горло, и в этом почти лишенном воздуха коконе Канаэ сражается за то, чтобы сделать каждый следующий вдох. (Но она — принцесса; она не создана для сражений, даже таких).
Она дрожит и покрывается потом — одновременно; простыни липнут к ногам, опутывая, как цепи. (Но разве не она здесь хозяйка, пускай и будущая?)
Измученная, Канаэ поднимается, чтобы набрать немного воды — смочить горло, плеснуть в лицо, — и застывает в дверном проеме, мигом забыв, куда собиралась.
Химэмия Анфи, сестра ее любимого, ее жениха, ее принца проходит мимо, ступает неслышно, опустив взгляд.
В ладонях у Анфи — свеча, толстая, истекающая липким воском. Там, где горячие капли падают на смуглую кожу, тотчас же набухают отвратительные волдыри — но Анфи не обращает внимания.
Канаэ крадучись следует за ней, до белых костяшек стиснув на груди дрожащие руки. Застывает, тяжело и глухо дыша, вжимается в стену при одной только мысли о том, что её заметили; но Анфи не оборачивается ни разу. И они идут друг за другом (недруг за недругом) вдоль по коридорам башни, бесконечным, как лабиринт. Ночь тянется, как этот их путь, бесконечная и бездонная, и Анфи растворяется в этой ночи — или просто у Канаэ что-то со зрением, — из девушки становясь просто свечой, а следом — нитью, красной, кровавой.
Обвивающей ручку двери — чьей-то знакомой (и одновременно незнакомой) спальни.
Не нужно даже тянуть: дверь приоткрывается сама собой, и оттуда тянет запахом земли, могилы, стоячих болотных вод.
Там — широкая кровать под звездным балдахином, а на кровати — спящий принц, прекраснее которого нет на свете.
...и звёзды падают, срываются прямо с потолка, и у одной из них — лицо женщины, древнее и вечно-юное...
...она приземляется, с шипением и всплеском, на землю — в объятия сильных и смуглых рук..
…выгибается назад, стонет, выставляя острые груди, точно шипы или наконечники копий...
...раскрывается, словно бутон, выпуская наружу — соцветье клинков, блестящих и гладких, только лишь немного запятнанных кровью и густой желчью…
…и под ней — словно не человек, а темнота, принявшая форму; молочно-бледная туманность, заволакивающая голубые звёзды...
...и небосвод кружится, всё быстрей и быстрее, и лучи света, отраженные от убийственного металла, свиваются спиралями — а может, это сливаются в одну линию огни фонарей на скоростной трассе...
...и только два цвета остаются, два единственных в целом мире цветка, две розы, пепельная и пурпурная, переплетенные корнями на дне отравленного бассейна...
Два цвета.
Белоснежные волосы её любимого жениха. Фиалковые локоны Химэмии Анфи.
Ненавистной, проклятой ведьмы Химэмии.
Канаэ просыпается от сна, который не был сном, и приглашение на семинар Микагэ уже лежит, запечатанное темным сургучом, у ее изголовья.
Каким-то застарелым, чужим чутьем Канаэ мгновенно понимает, что перед ней. «Мемориальный зал» — название, которое раньше казалось лишь данью уважения чьим-то непонятным заслугам, проносится в голове, и пусть даже на каждом из множества гробов не табличка с именем, а просто роза — перепутать и ошибиться нельзя никак.
Она в ужасе ступает назад, но руки — воспоминание о других руках, из другого прошлого — смыкаются вокруг неё.
Плотная ткань униформы неласково трется о её спину. Белозубая улыбка вспыхивает над самым ухом.
Ладони накрывают её груди, безошибочно отыскивают под платьем соски. Щиплют, надавливают — безразлично, бесстрастно; касаются, точно осознавая, что за отклик хотят извлечь, — так касаются скорее счётов, чем музыкального инструмента.
И она дрожит, поддаваясь — подаваясь вперёд, теряя ощущение времени, а вместе с ним — рук и ног, зрения и слуха, языка и зубов.
Обнаженная кожа — сухой пергамент, на который ровная, равнодушная рука наносит письмена, а затем накладывает печать: договор да будет исполнен.
Печать — всё та же знакомая, истекающая кровью (её собственной, понимает Канаэ, кровью) прихотливая роза.
Невидимые руки скользят по ней — чувственно-безразлично, без тени даже вымечтанного желания. Им неинтересна округлость груди и изгибы бёдер, и темная тайна меж этих бёдер — власть над естеством и над духом — неинтересна тоже.
«Глубже», — слышит она снова, точно эхо прозвучавшего в лифте.
Глубже внутрь, в неведомое даже ей самой — или тщательно позабытое; стертое, снесённое до фундамента.
В теле словно бы не остаётся костей. Позвоночник высушен, разъят на отдельные звенья, и каждое из них стерто до желто-серого крошева.
Её сминают и лепят заново, как глиняную фигурку; творят из неё человека, «по образу и подобию», и лежащий в гробу обугленный остов улыбается новообретенной «близняшке» всеми сохранившимися зубами.
Её ребра, истончившиеся, как паутинные нити, расходятся, и тонкие пальцы в перчатках вкладывают между них яблоко — сердце. Вдоль того, что когда-то было хребтом, змеится шипастый стебель; он не дает рухнуть, когда Канаэ выпрямляется — с целеустремленным, холодным огнем во взгляде.
Смуглая ладонь вкладывает ей в руки меч.
И это почему-то кажется до острой боли знакомым.
Канаэ возносится ввысь, из мрака к распахнутым небесам, и воздух, пропитанный колокольным звоном, подхватывает её, точно птицу, ласково и надежно — и память отзывается в груди, там, где приколот черный цветок.
На целую яркую, беспощадную, обжигающую секунду под слепящим небом Арены, которую — казалось — ей больше никогда не доведется увидеть, она… Вспоминает.
И знает — на целый огромный, восхитительный миг, — за что и почему собирается вонзить меч — призрак меча, потерянного навеки — в ведьминское сердце Невесты-Розы.
Ей хочется рассмеяться, глядя в лицо теперешней победительницы, в ее сияющие — дурацкие, дурные, безумные, беспощадные — голубые глаза.
Но вместо смеха Канаэ лишь скалит зубы, принимая боевую стойку.
Она отбивает первый выпад этой… кого? Канаэ хмурит лоб, бессильная вспомнить имя — отбивает без особых усилий, словно только этим и занималась всю жизнь. Словно вся её жизнь, сколько её ни есть, сосредоточилась в звонкой дрожи столкнувшихся между собою клинков.
Словно всё это — уже было; случалось, но закончилось изломанным и неправильным, так, как будто кто-то продал первородство за чечевичную похлёбку.
И как будто это, неправильное, всё-таки ещё можно спасти: преломить в отраженном свете и переделать. Прорастить цветок заново из спящего зерна, вылупиться совсем иной бабочкой из оцепеневшего кокона на мерзлом листе.
Она держится за эту единственную, отчаянную мысль — мысль о последнем шансе.
До тех пор, пока глаза противницы не отражают вдруг свет, не существующий по эту сторону горизонта событий; пока та не застывает на секунду с запрокинутым к небу безмятежным лицом и раскинутыми руками — и нечто сияющее, что приходит оттуда, не смешивается с её собственной сутью. Беззвучным и ослепительным ударом. Неотвратимым, разящим продолжением не меча даже — руки, сердца, души.
Это больно. Это — знакомо и радостно.
Как будто это когда-то было — её.
Было.
Но больше никогда, ни разу за всю вечность будущего и прошлого, уже не будет.
Отчаяние, осознанное полностью и целиком, без малейшего отголоска надежды, рушится на неё.
Меч ломается у неё в руках.
Отравленные лилии вянут в одно мгновение, и яблоко, заменившее сердце, морщится и гниёт.
Канаэ падает на колени и кричит, кричит, кричит — но даже этот вопль кажется только отзвуком, эхом чего-то более отчаянного и страшного, чего-то, о чем она уже окончательно и непоправимо не помнит.
Старик-король болен; старик-король бредит, будто у него была дочь — прекрасная и нежная, как лепесток лилии (или всё-таки розы?).
Жена-королева поправляет ему подушки, укладывает его руки поверх одеяла — не давая слабеющим пальцам схватить себя за запястье. Королева очень, очень хорошо выучилась избегать ненужных жестов и прикосновений, замирать и утекать в сторону, пережидая мгновения навязанной близости, словно приступы жестокой головной боли.
Старик хрипит, пытаясь выдавить из горла — имя.
— Да, мы правильно сделали, усыновив его, — кивает супруга господина Отори.
Господин Отори слишком обессилен, чтобы ответить ей.
Он раскрывает рот, как выброшенная на берег рыба, шамкает почти беззубыми челюстями. Образ приемного сына танцует перед его взглядом, точно змея факира: изящный, предупредительный, ядовитый.
Он хочет видеть ее, персиковую, белопенную, кроткую — принятую радушно, а потом отданную… в дар? в жертву?.. Хочет почувствовать морщинистыми сухими пальцами касание её рук и расспросить обо всём.
Господин Отори на пороге смерти хочет знать, что он не ошибся. Что не совершил самого непоправимого.
Госпожа Отори холодно улыбается уголками губ.
Кому, как не ей, знать: Отори Канаэ никогда не существовало. Даже если следы — на жарком ли камне, на широкой ли постели или в неверной старческой памяти — ещё не остыли.
Но всему свой черёд.
На закате госпожа Отори поднимается на верхний этаж башни принца-дракона, сына и возлюбленного.
И, дрожа веками, запрокинув голову в его змеиных объятиях, она на краткий миг видит саму себя — юную и смеющуюся, еще не соблазнившуюся судьбой принцессы.
Но отблеск тает, становясь выцветшей фотографией, такой тусклой, что уже не различить лиц. Фотографией прекрасного принца, облаченного в алый плащ, и юной девы в подвенечном наряде.
(«Все девушки — на самом деле Невесты-Розы», — шепчет в ее памяти незнакомый — знакомый настолько глубоко, что ноют корни зубов, — нежный голос).
Когда его поцелуи, рассчитанные и беспощадные, спускаются ниже — и еще ниже, — она со сдавленным стоном откидывается на спинку дивана и закидывает ногу ему на плечо, поджимая тщательно напедикюренные пальцы. Закрывает глаза, позволяя себе забыться, затеряться во влажных движениях его языка.
В конце концов, беспамятство — единственная награда, которая остаётся сдавшимся победителям.